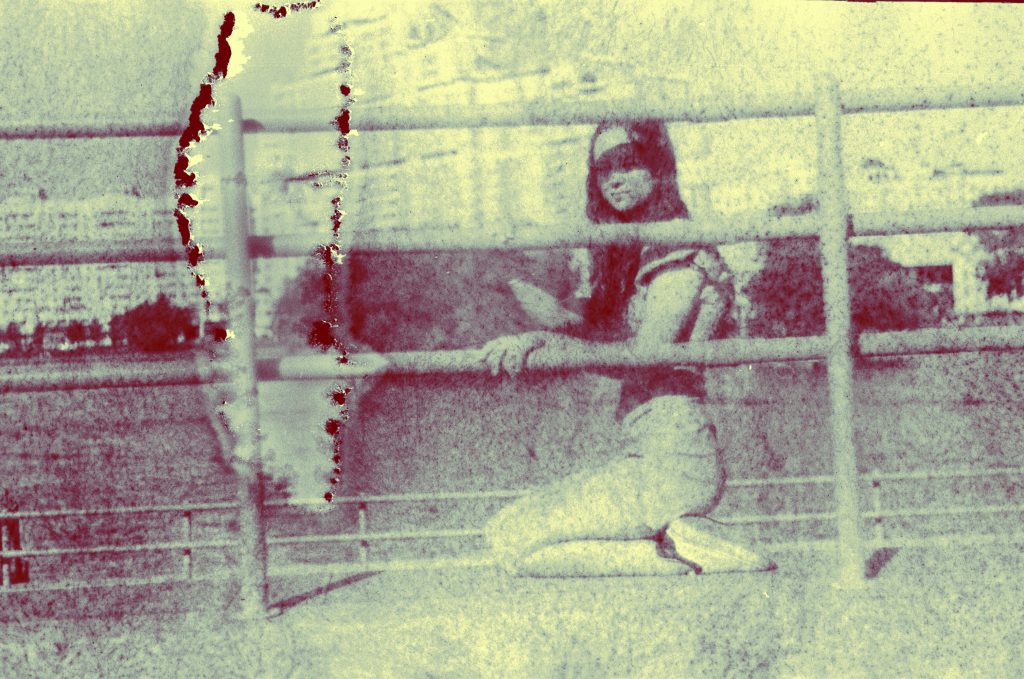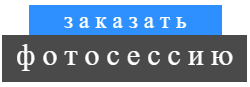Про фотографа Адольфо Каминского есть статья в Википедии. Наверно я бы так и не узнал про него, если бы не прочел историю человека, который во время Второй мировой работал в подпольной химической лаборатории в центре Парижа, подделывая документы для евреев и таким образом спас жизни около 14 тысяч людей. В подполье его звали “Техник”, про него никто не знал и одновременно слава о нем разошлась по всей Европе…
При чем он так набил руку на изготовлении фальшивых документов, что потом работал на спецслужбы и еще около 30 лет помогал подделывать паспорта разным партизанским группам по всему миру. В результате частично ослеп, переехал в Алжир, женился на женщине из племени туарегов, хотя – как обычно бывает в биографиях людей «из подполья», детали личной жизни всегда немного ускользают: важнее то, что он как будто все время жил на границе между видимым и невидимым…
Тайна, которую он хранил
Интересно, что своим детям про свою биографию Камински не рассказывал до 80 лет – дочь узнала большинство фактов про его реальную жизнь, когда решила написать биографическую книгу (которая, к слову доступна у нас в продаже под названием «Адольфо Камински, фальсификатор»).

Почему молчал? Версия «чтобы не травмировать семью» звучит благородно, но неполно. Есть и другая, более техническая: когда ты десятилетиями делаешь так, чтобы тебя не было видно, ты привыкаешь к этому как к кислороду. Виден значит уязвим, узнаваем значит контролируем.


“Я с камерой” и “я на сломанных рельсах” – всего два кадра, а уже выглядит как автобиография без слов. Камера как инструмент контроля, рельсы как метафора сорванной «правильной траектории».
“Малейшая секунда невнимательности”: когда ошибка равна смерти
В своих мемуарах Камински описал свою работу так:
“Я боялся технических ошибок, мелких просчетов, мельчайших деталей, которые могли ускользнуть от моего внимания. Малейшая секунда невнимательности может оказаться фатальной…”
Этим все сказано, потому что он не “подделывал бумажки” и не снимал “фото на паспорт”. Он делал маленькие переносные мосты через пропасть, при этом начал это “производство” по сути подростком и продолжал всю жизнь.

Как это было технически? В подпольной фотолаборатории он смастерил центрифугу из велосипедного колеса, чтобы светочувствительная жидкость равномерно распределялась по фотогравировочным пластинам, и использовал трубку для повторной полировки бумаги, поврежденной кислотой.
Для преследуемых он делал до 500 новых фальшивых документов в неделю: удостоверения личности с фотографиями, свидетельства о рождении, крещении и браке, продуктовые карточки, а позже, для французской армии, немецкие документы и полицейские удостоверения. Он даже изготавливал рельефные почтовые марки (для префектуры и ратуши) методом фотогравировки и доставлял их лично, рискуя быть арестованным…
Если чуть “приземлить” романтику: он буквально жил в мире, где типографика, кислотность, водяные знаки и человеческая походка на улице стали одной системой. Ошибка в шрифте или на фото равнялась ошибке в судьбе.
Анти-Монтандон: когда «наука» маркирует, а фотограф раз-маркирует
В одной из статей про него есть точная формула: Каминский по-своему стал анти-Монтандоном – антиподом врача-антрополога Жоржа Монтандона, одного из тех, кто пытался придать антисемитизму вид “научной процедуры”.
Монтандон – это врач и антрополог, связанный с этнорасистскими кругами во Франции, который во время оккупации и режима Виши оказался востребован как эксперт по “распознаванию”. В октябре 1941 года он участвовал в организации пропагандистской выставки в Пале Берлиц, которая буквально учила публику “как распознать еврея”. С декабря 1941 года он был прикомандирован в Генеральный комиссариат по еврейским вопросам в качестве “этнолога” и за деньги выдавал “сертификаты не-принадлежности к еврейской расе” – по сути, бумажные “пропуска на жизнь”. Причем это была не метафора: он реально проводил антропологические осмотры и измерения (вплоть до индекса черепа), при этом сама практика стала для него крайне прибыльной – он сделал около 3800 таких “экспертиз” за деньги.
У Монтандона “наука” превратилась в бюрократический скальпель: он помогал государству разрезать людей на категории, чтобы одних вычеркнуть из будущего. Любой осмотр мог означать депортацию одним росчерком, при этом про него все знали, а осмотр оплачивался по большому тарифу.
У Каминского же все было наоборот: химия, фотография, бумага и печати были нужны, чтобы временно выключить машину классификации, вернуть человеку возможность исчезнуть из фокуса и пересечь границу – физическую и юридическую. При этом про него никто не знал и денег он за работу не брал. В итоге эти принципы превратились в философию на протяжении всей его жизни.
Границы как моральная тема, а не география
После освобождения Франции Камински мог бы сказать себе: “миссия завершена, я сделал достаточно”. Вместо этого он еще лет тридцать воспринимал подделку документов как продолжение сопротивления – просто враги менялись: от нацизма к колониальным войнам, расизму, диктатуре, сегрегации, государственным машинам, которые решают, кому можно жить “здесь”, а кому нельзя жить “вообще”. Отсюда выросли два его жестких правила, которые связаны с темой границ напрямую.
1) Не брать деньги за “подделки”. Это не романтика бедности и не поза святого. Деньги превращают помощь в услугу, а услугу в контракт. Контракт требует лояльности, а лояльность делает тебя управляемым. Камински, наоборот, защищал свою единственную стратегическую роскошь: право сказать “нет” в любой момент, если дело противоречит его этике.
“Моя жизнь фальсификатора была долгим, непрерывным сопротивлением, потому что после нацизма я продолжал сопротивляться неравенству, сегрегации, расизму, несправедливости, фашизму и диктатуре”.
Позднее его дочь рассказывала, что отец всегда был с пустым кошельком, однако от убеждений своих не отказался бы ни за что на свете.
2) Помогать “угнетаемым”. Для него “угнетение” – это не географическая метка и не партийная принадлежность. Это ситуация, где человека лишили легального права на движение, на безопасность, на будущее. И тогда граница становится не линией на карте, а моральным прибором: она показывает, где у системы кончается язык прав, и начинается язык исключения. В таком мире поддельный документ парадоксальным образом превращается в инструмент возвращения базового человеческого статуса.
“Лично для меня место не имело значения. Я не был сионистом. Но я решительно отстаивал идею о том, что каждый человек, особенно если его преследуют и его жизнь в опасности, должен иметь право свободно передвигаться, пересекать границы, выбирать место своего изгнания”.
Если этот фрагмент вырвать из биографии, он звучит почти как абстрактный гуманизм “за все хорошее”. Но по факту это послевоенная формула его ремесла и его принципов.
Почему фотография вообще?
В 1950-х годах Камински зарекомендовал себя как коммерческий фотограф, открыв студию на улице Жёнёр. Он снимал портреты, воспроизводил произведения искусства и делал кадры из фильмов, сотрудничая с художником-декоратором Александром Траунером над фильмом Марселя Карне (Juliette ou la Cle des songes).
В Алжире, где он прожил 10 лет, Камински стал профессором фотографии, а после переезда обратно во Францию продолжал фотографировать и обучать детей фотографии.
И парадоксально: отказавшись брать деньги за «самое важное» (за документы), он зарабатывал фотографией как будто специально разложил «служение» и «проживание» на разные полки.



Почему он все-таки решил заняться фотографией в принципе? Причем не только коммерческой: учил детей и снимал урбанистику.
Моя гипотеза: потому что фотография для него стала способом перенести привычку к точности в пространство, где ошибка не убивает.
- В документах фотография – это “лицо как приговор”: лишний миллиметр, не та тень или резкость – и тебя узнают (или не узнают).
- А в уличной фотографии все наоборот: ты позволяешь миру быть неровным, фиксируешь любые “ошибки” не как угрозу, а как фактуру времени.
Звучит почти как психотерапия через оптику: перестать жить в режиме фатального дефекта и начать видеть, что несовершенство может быть свидетельством жизни, а не поводом для расправы. Как пишут в одной из статей, “он поднимался по ночам на крыши Парижа, делая завораживающие фотографии спящего города и “возвращая себе вкус к жизни”.
При этом личные снимки десятилетиями оставались в архиве. В разных текстах это описывают так: он снимал «элегантные монохромные вспышки» городской жизни и рабочего Парижа; работы «десятилетиями оставались не увиденными» и всплыли уже в выставочных проектах в 2019–2022 годах.
В 2019 году в Музее еврейского искусства и истории (MAHJ) состоялась ретроспективная выставка под названием «Адольфо Камински, фальсификатор и фотограф». Его черно-белые фотографии проституток, уличных музыкантов, клошаров и букинистов напоминают работы Брассая и Анри Картье-Брессона. На них изображены мелкие ремесла, которым суждено исчезнуть, уличные сцены, наполненные поэтическим реализмом, и, прежде всего, парижская ночь, которую он так любил. Когда Каминского спрашивали о происхождении этой тайной страсти, он робко и почти шепотом отвечал:
«Я хотел, чтобы где-то существовал художник, намеренно подавленный, потому что было важно, чтобы его не знали и не признавали».












Материалы:
- Аккаунт на Flickr, где опубликованы 33 фотографии (похоже его личный): https://www.flickr.com/photos/adolfokaminsky/
- Большой очерк London Review of Books: Adam Shatz, Beyond Borders (самая “живая” фактура биографии) – ссылка
- Эссе в K. (контекст Франции, фотография, попытка анализа фотографической философии; там же фрагмент про Монтандона) – ссылка
- Хорошая статья-обобщение от The National WWII Museum (включая оценку 14,000+ человек и историю про испорченное зрение) – ссылка